Мертвый таймень
Меж бревен вверх брюхом плавал по Енисею огромный таймень, и замусоренная вода пузырилась вокруг мертвой рыбины. По древнему зову пришел таймень осенью к тому месту, где был Манский бык, который безо всякой надобности смахнули гидростроители, стал за камни — ближе к живым донным ключам. Весной таймень начал пасти стаю ельцов, выедая тех, что больны и ослаблены. Забылся в охоте таймень. Увлекся. А возле займища в Овсянскую запань разгружалась железная лесовозная баржа — колымага, разом обрушив в воду весь лесной груз тонн в семьдесят весом, и, как глупого мелкого ельца, хряпнуло бревнами, оглушило речного красавца, быть может, последнего из тех речных богатырей, что стояли веками за Манским быком зимней порой в холодной, тихой яме и украшали жизнь реки, продляя богатырский таймеиный род, разжигали рыбачью удаль и страсть.
Крестьянин
Мы охали из Красноярска в село Казачинское и достигли уже Большемуртинского района, где села сплошь почти именуются по-татарски и живет здесь много обрусевших татар. Земля была вся в цвету. «Вся!» — я произнес не как литературный образ, земля в самом деле цвела в три, в четыре, в пять этажей! Она буйствовала, она, озоруя, мазалась красками, безудержно, по-детски радуясь самой себе, теплу и солнцу. Понизу земля была опрыскана белыми цветами клубники и земляники, гусиной лапкой, ветреницами желтыми и белыми, блестками травы-муравы, звездочками любки и майника. Выше синели ирисы, качались ландыши белые и лесные — орехового цвета, и кое-где уж птичьим яичком выкатывались из сдвоенного листа рябенькие кукушкины слезки, робко и просительно открывая ротик, обметанный молочной пеной, а еще выше — и цветы эти, и землю всеохватно и яростно захлестывал пожар сибирских жарков. Огненное буйство усмиряли только спокойные цветы медуницы, синеющие по опушке леса, и уверенные, крупно растущие по мокрым логам и склонам гор марьины коренья с уже забуревшими, кругло выпирающими бутонами. Глаз радовался, душа пела, восторг передавался ей от ликующей природы. Так вот, с восторженным настроением, громким говором, мы и вкатили в какое-то сибирское село с приземистыми, крепко рубленными избами, приветливость которым придавали, пожалуй, только ставни, пестро, как у теремков, покрашенные, да цветы на окнах. Машина наша ехала бойко по улице, и от нее в панике разлетались на стороны курицы и от каждого двора, сатанея, гнались псы, пытавшиеся ухватить зубами за колесо наш транспорт. Впереди показалась белая лошадь с распущенной гривой и буйно разметавшейся челкой. На ней сидел человек с предостерегающе поднятой левой рукой, в правой он крепко держал повод обороти. — Я объезжаю молодую лошадь, — с чуть заметным татарским акцентом сказал он и тихо, уважительно прибавил: — Извините! Лошадь грызла удила, косила коричневые глаза на машину и круглила гибкую шею, как бы обтекая собой автомобиль, и в то же время не двигалась с места, а лишь пританцовывая, щелкала подковами. Парень — по лицу это был парень, но крупный, с мужицким раскрыльем плеч, с прямым доверительным взглядом и тем достоинством в каждом движении, в слове и в улыбке, которое дается истинным труженикам земли, ничем не запятнавшим свою жизнь во многих поколениях, не дрогнувшим в лихолетье, уверенным в себе и в той пользе, какую они дают миру и людям, — парень этот не горячил молодого жеребца, чуть порябленного серыми пятнами по ногам и по груди, он как бы давал полюбоваться конем и собою, и мне показалось, лошадь понимала его и, гарцуя, немножко кокетничала перед нами, но страх все же жил в ней, она боялась машины, у которой стучало сердце и выбрасывало душный дым, и людей, сидящих в машине, боялась, не понимая, отчего они сидят в ней, а не на ней, и вообще жеребец был еще молод, ему хотелось мчаться, лететь над землей, и он вдруг понес, трусовато закидывая ноги и зад, как это делали когда-то беспородные, дураковатые крестьянские кони, не видавшие никаких машин, как мы когда-то в детстве, ополоумев от страха, очумело мчались в сумерках мимо деревенского кладбища. Парень, откинувшийся в седле, выровнял себя, сжал бока лошади стременами, что-то ей сказал, наклонившись, и она вроде как поняла его, перешла на красивый, стелющийся намет. Унес жеребец парня за околицу села, в пылающие жарким весенним цветом поля, в нарождающееся лето, к солнцу, а мы еще долго смотрели им вслед, и мне посейчас еще видится белая-белая лошадь и ладно, уверенно сидящий в седле парень с приветливо и предостерегающе поднятой рукой. Рука была большая, узловатся, величиной с совковую лопату, с мозолями на ладони. А лошадь — пугливая, юная, с шелковистой, нежной гривой и звонкими, серебряно сверкающими копытами.
Зачем я убил коростеля?
Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу. Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже завалилась на бок. От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать — непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа. Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем. Я взял в руки птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана. Я узнал птицу — это был коростель. Дергач, по-нашему. Все другие его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края — зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки — в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его. И худое, почти невесомое тельце птицы, нехитрая ли окраска, а может, и то и другое, и что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность. Я вырос в семье охотника, и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей. Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни. Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли. И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке. И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая несмышленого, азартного парнишку. Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете. Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза…». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы. Не приспособленная к полету, но быстрая на ногу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море. Как идет коростель, где, какими путями — мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц — небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает, все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас на Руси пекут жаворонков к их прилету. Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти. Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли. Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?
Справочная информация
ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной
Бизнес и финансы
БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством
Орлан-могильник
Казым, мыс на Нижне-Обской низменности, видно в ясную погоду верст за пятьдесят. Весь он в темной и теплой шубе кедрачей. Поселок, раскинувшийся по песчаному взгорью, тоже в кедрах. Казымчане во дворах шишку бьют, за огородами морошку, бруснику с голубикой собирают. Приволье тут, обский простор и многоверстная тишина, да такая, что уж и не верится в ее светлую первозданность. Ходишь, явившийся из грохочущей и копотной цивилизации, и недоверчиво озираешься, ожидая какого-нибудь подвоха или привыкая вновь к благостно-покойному миру. Мы компанией бродили по поселку, ожидали, когда откроют магазин. На травянистых улицах играли ребятишки: узкоглазые — хантыйские и курносые, конопатые — россияне. Тут же стаями толкались мохнатые псы, и ребятишки садились на них, теребили за хвосты и за уши — вроде бы и нет более мирного существа, чем северная лайка. Но и нет среди собачьего народа ревнивей лайки. Стоило молодцеватому остроухому псу оттереть в сторону пса потертого, отяжелелого годами и затесаться в компанию ребятишек, чтоб его тоже трепали бы за уши, играли бы с ним, как поднялась свалка. Зарычали, покатились псы под гору кубарем — шерсть клочьями летит. Сопленосые же ребятишки и растащили этих свирепых псов. Они тут же хвостами им махнули, дескать, порядок, все спокойно, готовы служить и веровать, и начали облизывать себя, врачуя и латая раны и рваную шубу. На краю поселка, за небрежно и как попало наставленными домами и худенькими северными огородами, приветливой рощицей густо клубился приземистый кедрач, и мы подались поглазеть на него. Попали к кладбищу, на котором кресты стояли, как и дома в поселке, разбродно, сикось-накось. Заметно было, что по неогороженному кладбищу шляется скотина, и псы прячутся здесь и грызут брошенные им оленьи кости — много их белело на запущенных, неприбранных могилах, бугорки которых затянуло дурманно воняющим болотным багульником и кровянисто рдеющей брусникой. Мы стояли возле кладбища, молча дивуясь его дикости и убожеству, которое старательно прятали разлапистые кедры, опустившие густохвойные, всегда нарядные ветви до земли, как вдруг под одним кедром что-то зашевелилось, захрипело, и на нас прыжками вымахала огромная взъерошенная птица. Женщины вскрикнули, мужчины вздрогнули. Все невольно сделали шаг назад. Птица, в которой мы не сразу признали орла, клекотала раскрытым клювом, всхрипывала, глядя на нас, и горло ее судорожно дергалось, а глаза с фосфорическим, зеленоватым ободком свирепо круглились. — Это он ись просит. Не бойтесь его, — пояснили нам незаметно объявившиеся ребятишки и рассказали о том, что орлан этот белохвост был кем-то давно-давно подбит и вырос здесь вот, в поселке. Живет он на кладбище и зиму, и лето, ночует под теплыми кедрами, а кормится подачками — кто чего бросит, то и ест. Кости на кладбище — это все остатки его жратвы. И сразу сделалось заметно, как птица эта, грозная с виду, неопрятна и жалка, а взлететь она выше, чем на городьбу, не может. Нищая и убогая попрошайка с обликом орла, которую даже собаки не гоняют. Грозно сверкая орлиным взором, может она еще нашего брата — заезжих — напугать, но удивить никого собою не может
Средь людей тоже встречаются такие птицы — по оперенью орел орлом, а питается отбросами со столов и летать вовсе не умеет… Ребятишки важно сообщили, что магазин открылся, и мы пошли в поселок. А орлан, не получивший подачки, недовольно стуча круто изогнутым клювом, хрипя сердито и простуженно, хромая, как кладбищенский сторож-инвалид, заподпрыгивал к могилам и спрятался в тихом надгробном кедраче
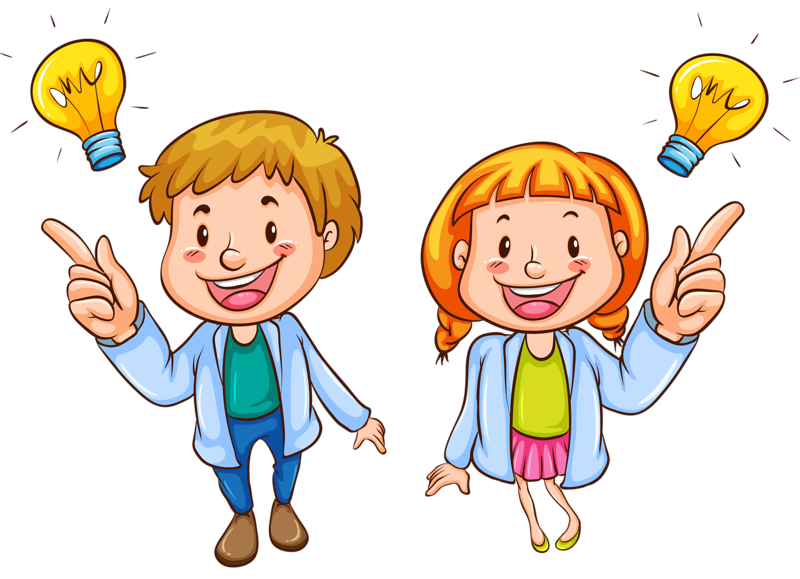




![Зачем я убил коростеля?. ребятам о зверятах: рассказы русских писателей [антология]](http://babymart-ekb.ru/wp-content/uploads/6/5/7/65713cacaa5fcfb2bb7a400c0cb3eeb7.jpeg)





![Зачем я убил коростеля?. ребятам о зверятах: рассказы русских писателей [антология]](http://babymart-ekb.ru/wp-content/uploads/3/2/0/3209277de828562a81497cc593248551.jpeg)



